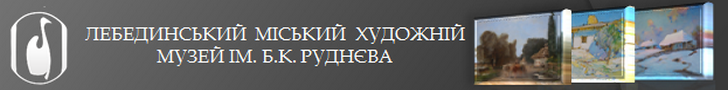В публікації збережено мову оригіналу – російську та стилістику автора щодо викладення фактів. Думка автора щодо оцінки і перебігу історичних процесів в Лебедині може не збігатися з думкою працівників художнього музею та читачів цих матеріалів.
Детские годы: зимние посиделки
Особую любовь я тогда проявлял к так называемым «зимним посиделкам», то есть к тем вечерам, когда к отцу приходили его родные братья и вспоминали своё прошлое. А они собирались все вместе к нам очень часто и, говоря о том, о сём, всегда вспоминали своего отца, мать, говорили об их жизни. Дело в том, что брат моего отца – Иосиф родился уже здесь в Глушевке, и мало что знал об отце и матери, так как они вскоре умерли. Отец мой тоже не много знал об их судьбе, так как был он тогда ещё малолетним. А старшие их братья (мои дядьки) Исаак и Харлампий, которым было тогда 18 и 16 лет, помнили своих родителей очень хорошо, охотно рассказывая про них истории.
Самый злободневный вопрос тогда был о земле. Как то раз, беседуя о смерти своего отца, дядька Исаак сказал:
– Надо ж было не дожить ему один год до наделения крестьян землей, у нас тогда бы было ещё больше земли, чем теперь.
А дядя Иосиф спросил:
– А почему у нас в наделе по три и три четверти десятины земли, а у других только по три десятины?
– У нас тоже по три десятины, – сказал дядя Исаак, – а по три четверти нам дали из надела старшего нашего брата Григория, сосланного в ссылку.
И он рассказал нам про их брата Григория такую историю.
– Мы здесь не родились, – сказал он, – а нас обменяли за собак. Мне было тогда 16 лет, Харлампию – 14, Аврааму – 6 лет, а тебя, Иосиф, тогда ещё не было на свете. А Григорий среди нас был самый старший. Ему было уже 20 лет. А ещё был у нас Яков, тот умер рано. Барин Милер обменял нас на каких-то дорогих собак со щенками у барина Рутковского с Волынской губернии на 100 крепостных душ: пятьдесят мужчин и пятьдесят женщин. Когда подбирали семьи на обмен подобрали мужчин 46 человек, а женщин – 49. И до 50 не хватало 4 мужчин и одной женщины. А наша семья, как раз из такого количества душ и состояла. Поэтому нашу семью и включили в этот обмен. Когда нас пригнали сюда, здесь ещё только начиналось обжитие этих мест. Правда, барский двор уже был отстроен. Дело в том, что барин Милер тогда только что выдал замуж свою косо-горбатую дочку за уездного казначея Скороходова, дал за ней 1000 десятин земли приданого и ему нужны были крепостные люди для работы. Вот мы и попали сюда в числе первых поселенцев этой деревни Глушевки.
Мы приехали сюда летом 1856 года. Переночевали: кто на повозке, кто под повозкой; а утром прибыл барин Милер. Он велел приказчику отводить поселенцам усадьбы, а сам начал искать цеховых. Когда он узнал, что Григорий работал в каретной мастерской барина Рутковского, его сразу же забрали и послали в город Харьков на работу в каретную мастерскую барина Милера.
Наш Григорий вернулся из Харькова только в 1862 году. Ему было уже 26 лет. Он ещё 2 года работал, ходил, гулял и познакомился в селе Будылка с дочкой захудалого дворянина Попова. Решил было жениться на ней, но его с позором оттуда выгнали. Тогда он решил чем-то отомстить этому Попову.
И вот он в одну ночь взял из дома серп, разрезал парки на соломенной крыше дома Попова и до утра раскрыл ему половину дома. За это его и сослали в ссылку, поделив его надел между нами поровну.
Я снова в наймах
Зима кончилась, был на исходе уже и март месяц. Снег уже согнало и моё «заточение» закончилось. Я успел уже несколько раз побегать по улице босой. Правда, было ещё очень холодно, но что поделать, сидеть дома сил не было. Но в конце марта были сильные приморозки и я из дому не успел ещё выскочить, как к нам явился приказчик Милерши и позвал меня и отца явиться к барыне Скороходовой.
– Она что-то вас зовёт, – сказал он.
Мы пошли. Поднялись на веранду дома, к нам вышла сама барыня (её позвала горничная).
Она предстала перед моими глазами не малой с большим горбом, как я думал, но согнутой в дугу. Глаза у неё были большие, выпуклые. Когда она говорила с моим отцом, то её глаза смотрели на меня. Когда же она обращалась ко мне, глаза её были обращены в сторону отца. Обращаясь ко мне она спросила:
– Никита, будешь пасти моих телят?
– Буду, барыня! – сказал я.
Обращаясь к отцу она сказала:
– Я думаю, Авраам, ты тоже будешь согласен. Я буду платить хорошо: два рубля в месяц на моём питании.
Отец замялся, но ответил:
– Только, барыня, деньги каждый месяц.
– А я тебе, Авраам, не Рагуля. Деньги буду платить в конце каждого месяца. Срок выхода на работу – 1 апреля.
Отец поклонился барыне, и мы вышли. Так я оказался снова в наймах.
Первого апреля ещё далеко до восхода солнца я был уже на ногах. Отец подвёл меня к рабочим воротам и стал стучаться. Сбежались и залаяли с десяток собак. На их тревожный лай к калитке подошел приказчик. Он отогнал их, открыл калитку и впустил меня во двор. Я жался к приказчику, боялся собак, а они обходили меня со всех сторон, обнюхивали и, видимо, убедившись, что я их не враг, отходили в сторону.
Один пастух уже приводил и привязывал дойных коров. Двое доярок стояли с ведрами, готовые начать. Надо только подпускать к ним телят. Но я ешё был здесь новичок, не знал, каких телят и где они. Одна из доярок пошла со мной, открыла дверь телятника и сказала: «Бери вон того (показала) и того». На шеях у каждого телёнка были сплетённые из пеньки кольца. Не успел я ещё потянуть телёнка за это кольцо, как они быстро выбежали и побежали к коровам.
Мы с дояркой побежали следом за ними, закрыв остальных в телятнике. Телята у одной и другой доярок припали к дойкам коров. Рядом с одной из них стоял пастух, возле другой был я. «Луч», раздалась команда доярок, я потянул от коровы телят на себя. Но оно так упёрлось передними ногами, что мне пришлось напрячь все свои силы, прежде, чем я оторвал его от коровы. Я держав его за кольцо, а оно рвалось к корове, падая на колени. Потом шли вторые, третьи пары и т.д. по три раза в день.
Если принять во внимание сроки восстановления сил у человека и скота, то человек набирает силу за один месяц в возрасте до пятнадцати лет только, примерно, два процента, а теленок в возрасте 3-4 месяца по 20-30%. Поэтому через 2 месяца с силой припускных телят я уже не мог справиться. Они мне сорвали часть ногтей и порассекали все пальцы на ногах. От этого я сильно страдал, а телята продолжали калечить мои ноги.
Теперь ещё добавилось количество дойных коров. Их стало больше 20. Доярок было уже четыре (за счёт горничной и кухарки), и мы стали отлучать сразу по двое телят. С этой работой я явно не справлялся, вытирая кровь на своих ногах после каждого удоя. Мои страдания были видны всем.
Однажды, когда ушли доярки, а я стоял над телятами, ожидая, когда они закончат сосать кровь, ко мне подошел один рабочий и сказал:
– Смотри, как их надо отлучать!
Он подошел к самому крупному бычку с левой стороны к голове, запустил свою руку через тело бычка с права аж к его ноздрям, левой взял его за край головы справа и начал поворачивать бычку голову на себя. У бычка хрустнула шея и он упал, как подкошенный.
Рабочий крикнул:
-Луч!
И бычок отскочил в сторону и зло смотрел на нас обоих.
На второй день и дальше я повторял этот эксперимент. Таким образом я свои страдания переложил на тех телят, с которыми я не справлялся. И они слово «Луч» стали понимать так, как солдаты в строю слово «Смирно!».
****
Вообщем у Скороходовой было около семисот десятин пахотной земли, остальное луг и лес. Число лошадей, крупного рогатого скота, свиней и птицы доходило до пятисот голов. И всё это хозяйство обслуживалось двумя рабочими, двумя работницами, горничной, кухаркой (для рабочих и скота), приказчиком и тремя сезонными пастухами.
В периоды роста объема работ, брались поденные рабочие. Так, например, зимой делалась чистка леса. В лес ехали приказчик, один рабочий из штата и пять-семь рабочих поденных. Вечером они возвращались, привозя с собой срубленный на почистке лес на дрова.
С начала марта месяца эти двое рабочих от ухода за лошадьми и скотом освобождались, они вывозили навоз на поля от конюшен и коровников на 15-20 подводах с участием поденных рабочих.
Уход за лошадьми и скотом передавался женщинам и пастухам.
****
У Скороходовой был неписанный закон: выгонять скотину на пастбище и провожать рабочих на работу с началом восхода солнца, а с пастбища или с работы возвращаться с началом захода солнца. Исключения допускались лишь в дни ненастья.
Эту неблаговидную работу взял на себя сам Скороходов. Он точно с появлением солнца из-за горизонта или началом заката его за горизонт подавал приказчику команду: «Открывай ворота!». Широкие ворота, состоящие из двух половинок открывались, сначала выходил или входил скот, потом въезжали подводы. Но к выезду в поле надо было ещё накормить и напоить лошадей, запрячь их, уложить на подводы инвентарь, посевной материал, получить у кухарки (жена приказчика) сухой паёк. Эта работа и утром и вечером дополнительно полтора часа. Сколько же тогда оставалось для сна?
Это обстоятельство заставило помещика задуматься, как лучше поднимать рабочих? И способы были найдены. Приказчик никогда и никого не будил, мол, вставайте, время. Он открывал дверь в помещение, где мы спали (одна комната на всех, только с нарами с двух сторон), становился посреди комнаты, брал самодельный большой барабан и колотушкой стучал по барабану до тех пор, пока нас как ветром не выдует из помещения.
С начала мая нас, мужчин, переселили спать на чердак конюшни, в сено. В первый день я уснул мгновенно. И вдруг над моей головой раздался оглушивший меня грохот. За ним последовал второй, третий. Я растерялся, начал плакать, не зная, что мне делать. Рабочий, уже стоявший в подвесных яслях кричал мне: «Давай сюда!». Мы выскочили из конюшни. Увидев нас, приказчик прекратил бросать камни на железо чердака в то место, где мы спали. Это был ещё один способ подъема рабочих, применяемых помещиком. Именно этот способ приводил всех к одурманиванию. Я никогда не видел, что бы хоть кто-то и когда-то из нас успевал умывал своё лицо. Мы все обросли корой.
****
С середины мая я начал выгонять телят на пастбище. До этого я чистил телятник, птичник, рубил дрова на кухню. Наблюдение за природой закончилось. Я стал ходячей тенью. Но это было не долго, с недельку-две, пока не обвык.
Однажды я выгнал пасти телят после громового дождя. Земля была ещё мокрая, солнце грело. Я присел на землю, и рядом со мной вырос небольшой столбик. Я поднялся и столбик исчез. Оказалось, что это суслик. Видимо в его нору попала вода, он вылез обсушиться, но я ему помешал. После этого случая я стал присматриваться больше. А суслики уже, видимо, свыклись с появлением телят со мной, что стали чаще появляться из своих нор, становились на задние лапы и поднимали свист, и какие-то сигналы. Я немного заинтересовался. Хотел было откопать, но не чем, выгнать же их водой не было посуды.
…Среди прочего имущества, у помещика было много собак. Они делились на собак по охране сада, двора, примерно по полдесятка штук на объекте. Их надо было кормить. И вот мне, как само позже выгоняющему телят на пастбище, поручили каждое утро кормить собак. Кормил я их помоями. Со временем, собаки меня полюбили, особо привязались ко мне Жек и Рыжка. Они стали ходить в поле вместе со мной, в роли помощников. В первые дни не находя себе занятий, они скучали, но потом всё наладилось. Рыжка приловчилась ловить сусликов, Жек же караулить меня от сна.
Как это ими делалось? Жек наблюдал за моими телятами, не давал им широко расходиться. А если я засыпал, он подсаживался ко мне и начинал лаять. Он лаял то тише, то громче до тех пор, пока я не просыпался. Если я долго не просыпался, он начинал скулить уже с воем.
Рыжка брала сусликов хитростью. Она находила нору суслика, отходила на метров пять и ложилась на бок, глазами в сторону норы, ведя наблюдение. Суслик сначала показывал из норы только голову и так смотрел минуты две, потом высовывался наполовину, со временем – весь. Далее минут пять он стоит «столбиком», через время отбегал от норы и делал стойку. На это уходило 10-15 минут, и только после этого удалялся от норы. Рыжка всё время лежала неподвижно. Но когда суслик был на растоянии 30-40 метров, она бросалась к норе, суслик возвращался туда же. Рыжка его хватала и бросала через себя, повторяя это по нескольку раз, пока суслик не будет задавлен. Я об этом расказал приказчику, приказчик барыне и мне разрешили брать для этих собак по 2-3 вареных картофелины дополнительного пайка.
На следующий день я взял с десяток картофелин под рубашку и погнал телят на толоку. Собаки были со мной. На дворе ярко светило солнце. Телята прилежно паслись. Я высыпал картофель и лег против солнца… через время – уснул. Разбудил меня какой-то крестьянин огромного роста с бородой, в чьи посевы зашли телята.
Он схватил меня за шею и поднял выше себя. В этот момент откуда-то прибежали Жек и Рыжка. Они с ходу вцепились великану в брюки и пиджак. Летели оторванные куски одежды. Я вижу, что дело пахнет бедой. «Жек, брось!». Собаки отскочили в сторону. Я сразу бросился искать телят, а великан, видимо, от досады потряхивал своей бородой, удалялся к подводе, что стояла у дороги.
Телят я нашел недалеко, в крестьянских посевах. Мне стало тогда жаль этого крестьянина, и видимо от этого смягчились резкие боли на моих ногах, оставленных его кнутом.
Так прошло лето 1907 года. Следовавшие за ним сентябрь и октябрь тоже были теплыми, дожди начались с началом ноября. В это время помещик внёс в нашу работу некоторые изменения. Мы больше не пригоняли на обед коров, так как перешли на двухразовый удой. Поденным рабочим сократили время на обед, и в период, когда кормили и поили лошадей, рабочие рубили дрова на кухню. Всё остальное было таким же.
Но, однажды, после грохота на крыше, я встал, но глаз никак не мог разодрать, они слиплись. Грохот продолжался и мне пришлось выбираться с чердака вслепую. Кое-как разодрав глаза, я пригнал телят на луг, когда испарялась морозная роса, превращаясь в пеленистый туман. Глаза сразу, как будто не болели, но с появлением яркого солнечного света в них появились резкие боли. Я стал прятаться от солнца в низинах луга, между кочек. Во-первых между кочек был мох, а он не покрывался морозом, во-вторых я прятал там свои босые ноги, и в третьих, ложась между кочек, я там прятал свои глаза от солнца.
День за днём, срок моего найма подходил к концу, оставалось только три дня. Но за эти три дня со мной случились две беды. Первая, это проблема с глазами, и вторая – мне скорчило ноги в коленях. Они согнулись и никак не хотели разгибаться. Ещё с вечера я ощущал только боли глаз, а на утро прибавились ноги. И как бы приказчик не бесновался, бросая камни на железо, этот грохот мне силы не прибавлял. Я только выл до самозабвения. Через час меня сняли с чердака на руках. Я обнял шею отца и он понёс меня на спине домой. На следующий день меня повезли в Лебедин, в больницу.
****
В больнице я пробыл три месяца. Каждое воскресенье ко мне приезжали отец и мать. У них было так заведено – ездить в этот день на базар. К тому же к обычной рутине покупки сала (фунт на неделю) и свидания с моим самым старшим братом – Иваном, который работал в Лебедине по портняжному делу, прибавилось посещение меня в больнице. Отец мог бы с этим делом справиться и сам, но у матери к поездке на базар были свои причины. Одна из них была та, что отец с горя мог пропить деньги, не купив то что нужно, а потом сгонял бы зло в дороге на коне, дома на матери, как это было раньше. Другая, мать непременно заезжала в городе к своей сестре-вдове.
У нас дома не было ни коров, ни свиней. Привезя домой этот фунт сала, мать сейчас же размеряла его ниткой на семь равных частей, разрезая его на эти части, и одна часть тогда составляла в нашей семье дневную норму жиров. Эта часть в свою очередь тоже делилась на три части. Для супов, на завтрак и ужин выделялось чуть поменьше, на обед чуть побольше. Сало, как правило, покупалось старое. И пища заправлялась салом бито-тёртым, чтобы иметь лиш его запах.
Последний раз они приехали ко мне в больницу и привезли мне новый костюм, что меня очень обрадовало. Это была вторая радость на моём веку. Первый раз это было, когда мне исполнилось четыре года. Тогда мой старший брат только начинал учиться портняжному делу и как-то привез мне маленькую жилетку, спереди простроченную цветными нитками. Я был счастлив, и сразу же одев её, побежал хвастаться. На улице нашел своих друзей и мы пошли эту жилетку «замачивать».
Слово «замачивать», видимо, я где-то слышал. И знал, что если новую вещь «замочить», то она долго носится. А как «замачивать» никто из нас не знал, и мы пошли это делать по-своему, в болоте.
Наши огороды тогда прилегали к болоту, и нам нужно было найти нужное место. Огород одного из наших соседей был огорожен жердями. К самым жердям подходила болотная низина, поросшая травой, в которой держалась ещё вода. Примяв чуть траву, мы разослали на ней жилетку и стали её замачивая. Это продолжалось пока нас не прогнал хозяин огорода. Он, пьяным шел по другой стороне, и, увидев нас, подумал, что мы воруем у него груши, начал орать и ловить меня (как самого большого). Я пустился наутёк, он за мной. Я бежал и бежал, пока не добрался до нашего дома и не увидел мать. Теперь вручая мне новый костюм она спросила:
– И этот также будешь замачивать, как жилетку?
– Нет! – сразу сказал я.
Отец добавил:
– Он уже поумнел.
В те годы в нашем селе ещё не было ни одного человека, который носил бы что-то из мануфактуры. Не было и так много одежды. У каждого мужчины были только одни постоянные брюки и одна рубаха без деление на верхнее и исподнее. Всё это было сшито из простого домотканного полотна. Правда в последнее время начали применять его окраску – ольхой или бузиной. А у меня костюм был окрашен в сосонку, сшитый в мастерской братом, и тужурка – тёплая на пеньковых клочьях. Как же мне не радоваться этому? Одежда стала моей отрадой, и другой у меня не было.
Продовження далі…