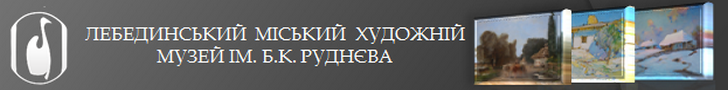Пасха являлась для меня каким-то происшествием с колокольным трезвоном нашей церкви, возле которой мы жили, с тротуарами, высыпанными желтым песком и валяющейся повсюду цветной яичной скорлупою. Дома у нас в это время покупали на базаре цветы желтофиолии в горшках, и стой поры до настоящего времени запах этого цветка всегда напоминает мне Пасху.
На Пасху же со второй недели у нас на площади устраивались балаганы, качели с досками на веревках, качели с люльками «через сволок», карусели, убранные цветным стеклярусом с летящими, распластанными в воздухе копями с перекошенными свирепыми мордами. Шум, гам, оглушающая музыка с сильными ударами барабана тотчас начиналась почти под окнами как только отойдет обедня в нашей церкви. Площадь переполнялась народом и нам строго было объявлено не отходить от дома. Кататься разрешалось только на каруселях, и то не одним, и ни в коем случае не на качелях. После полудня группы мальчишек, с бледными лицами и закрытыми глазами, устилали тротуар церковного дома – их тошнило после усиленного качания на качелях.
До семи лет я был свободен почти абсолютно. Ходил когда и куда мне вздумается. Нужно было только не опаздывать к чаю, завтраку, обеду и прочее да вечером вертеться на глазах у мамы. Впрочем, мои путешествия были недалеки: один я не отходил далеко от дома, так как нас пугали какими-то «греками, молдаванами», забирающих детей на улице, и совершить самостоятельную прогулку даже только «кругом квартала», как мы говорили, составляло событие.
Тогда день казался очень большим. Утром, когда наши круглые, стенные часы, отсчитывавшие нам так много часов, пробьют семь, я поднимался с кровати одевал свои, аккуратно сложенное платье – это было влияние дяди, человека военного и любившего у себя строгий порядок, наскоро выпиваю чай и спешу во двор, где уже томится, поджидая меня, товарищ и друг, Ванька, участник наших несложных игр, сын нашей кухарки. День начинался внимательным осмотром всех уголков двора, сада и чердака на нашем старом сарае.

Чердак этот, на котором раньше, когда у нас была своя лошадь, хранилось сено, позднее служил кладовой, куда сваливали всякий дрязг: ненужные поломанные вещи, старую мебель. Я долго не отваживался забираться в это место, откуда иногда из его темноты на меня светились глаза бродячих кошек и лежал какой – то человек без головы – большой, старый изломанный манекен для рисования. Но все это было гораздо раньше. Если не находилось подходящего материала для игр в этих местах, я обращался к своему имуществу – результату моей страсти собирать всякую ерунду.
Что только я не собирал: бумажки из под конфет, тщательно расправляя и складывая их стопками и деревянные катушки из под ниток и пустые коробочки, маленькие пузырьки и баночки из под лекарств и прочий всевозможный хлам, служивший часто причиной моего враждебного отношения к нашей прислуге.
Иногда, я внезапно охладевал к предметам своего внимания. Некоторые из моих богатств безвозвратно погибали в недрах высокой круглой печи, стоявшей в нашей передней. Впоследствии, когда я поступил в Реальное Училище, я более основательно собирал старые почтовые марки и бабочки, хотя не преследовал никакой серьезной цели. Марками интересовался потому, что они как бы говорили о чужих далеких странах, откуда они попали ко мне, а бабочки являлись каким-то красивым символом весны и лета – зелени, цветов, синего летнего неба. Интерес к маркам у меня давно уже пропал, охота же к собиранию бабочек не утрачена и в последующие годы.
Кроме уже описанных игр, играли мы в разбойников, лазили по всем деревьям и заборам, поднимая пальбу из пистонного оружия, играли в пожарных и в солдат. Впрочем игра в пожарных продолжалась не долго: после того как у нас загоралась большая куча щепок; а с нею заодно и забор в саду и мы не были в силах справиться с огнем, тушить который пришлось и нашей и квартирантской прислуге – игре в пожарных был положен конец.
Особенно любил я играть в солдаты: делал из палок ружья, из щепок сабли, цеплял на плечи полоски красной бумаги и воображал себя то солдатом, то офицером, хотя знал, что не могу быть ни тем, ни другим, так как еще в раннем детстве ушиб правый локоть и после неудачного домашнего лечения и поздно произведенной операции не мог вполне разогнуть свою руку.
Мой дядя, двоюродный брат моей мамы; бывший тогда в чине полковника производил на меня сильное впечатление. Он, шутя, называл меня своим денщиком за то, что я по утрам подавал ему полотенце, когда он приезжал из Новогеоргиевска, где служил, в Харьков и останавливался у нас. Позднее он совсем перевелся в наш город и часто приходил к нам. Я любил слушать его рассказы о мирных и военных походах, а ему, как участнику двух кампаний – севастопольской и турецкой, было о чем рассказать. За севастопольскую же кампанию, которую он совершил выйдя из последнего класса кадетского корпуса, получил он Георгиевский крест. Иногда вечером он своим густым голосом читал нам пушкинские стихотворения, а мы нависали на него со всех сторон…

В прежнее время, когда было не много грязных дорог, с весны начиналось передвижение войск походом на летние маневры, происходившие верстах в тридцати от нашего города. Тогда в городе расставляли солдат «на постой». Об этом «великом событии» прежде всего шли вести из кухонь. Какая-нибудь Маша или Арина таинственно сообщала маме – «завтра солдат поставят», а вечером на всех воротах появлялись белые цифры, начертанные какой-то таинственной рукой, указывавшей число постояльцев. На другой день появлялись и солдаты, усталые, запыленные многодневной походной пылью, в кепках, каких теперь не носят, в ранцах с настоящими ружьями со штыками иногда с мохнатыми барабанами. Счастливейшая минута!
Солдат помещали в пустой кухне, ставили им самовар. Со всех кухонь прислуга сносила им еду и свою и хозяйскую. Нас поминутно вызывали наверх, а вечером я вместе с солдатами, несмотря на запрещение, отправлялся «на поверку». Несколько дней провёл в волнении. Но «ничто не вечно» и одним утром, когда еще темно в нашей детской, сквозь сон услышал сигналы горниста, а когда встав выпив наспех чай, я летел, перескакивая через ступени на кухню, мне передали, что солдаты ушли и, уходя, просили «паничу кланяться». – Прошедшее всегда печально!
Когда я и мой брат стали сильно докучать дома нас отдали в Городское приходское училище. Выбор моей первой «альмаматер» остановился на нем потому, что оно было неподалеку от нас и ничего другого не преследовалось. Брат учился еще дома и попал во второй класс, а меня, как неграмотного, поместили в младшем отделении первого класса.
В училище я был занят от восьми часов утра до часу, иногда нас отпускали и раньше и у меня было пропасть свободного времени. Вел себя я в этой школе не особенно хорошо, как и все мои товарищи. Это были в большинстве – дети прислуги: кухарок, сторожей, дворников – народ бывалый и отпетый. Я порядочно шалил на уроках и один раз даже стоял в углу на коньках, которые надел заранее еще до звонка, не успел сбросить, когда меня вызвал учитель – памятная история!
В общем школа эта принесла мне мало пользы, читать я выучился бы и дома. В школе этой я научился дурно браниться и там же впервые пробовал начать курить: все эти попытки были неуспешными, даже гораздо позднее, когда я поступил в Реальное Училище – меня сильно тошнило и опыты в этом направлении были всегда печальны.
В Приходском Училище пробыл недолго – четыре месяца после поступления. Я простудился, когда меня во время перемены вываляли во дворе в снегу и заболел оспой. Вместе со мной заболела моя покойная младшая сестра, которой также, как и мне, не была привита оспа.
Тогда я проболел более месяца. Болезнь протекала в тяжелой форме, около полутора недель я был без сознания, метался, бредил, не хотел ничего есть и к концу кризиса ослабел настолько, что не мог поднять рук из под одеяла, хотя приписал это обстоятельство его тяжести. Очнулся я вечером и довольно поздно. Вздумал почему-то петь. На мой голос пришел некто А.И.С., к которому я обратился с просьбой, чтобы мне дали хлеба.
А.И.С. впоследствии довольно видный авантюрист, уволенный за что-то из Военно – Артиллерийской Академии, был частным поверенным и вел какие-то конкурентные дела в Харькове. У нас он поселился благодаря рекомендации нашего хорошего знакомого П.А. Г. – профессора Ветеринарного Института, к которому имел рекомендательные письма из Петербурга, а также благодаря излишней доверчивости моего отца, доверчивости, причинявшей нашей семье много хлопот и материальных огорчений.
Собственно история увольнений А.И.С. из Академии мне отчасти известна, но я считал ее несколько фантастической, хотя что-только не возможно у нас, но у меня нет охоты писать о ней. С. обыкновенно являлся к нам неожиданно и всегда с двумя короткими досками в парусиновом чехле, на которых он устраивался спать поперек лавок в вагоне; так-как о теперешних спальных вагонах и вообще длинных лавках в одной стороне не было и помину – вагоны были с проходом посредине. Этот С. сумел скопить себе значительное состояние, но не удержался и за проделки с векселями каких-то высокопоставленных лиц был лишен прав и сослан на поселение в Тобольскую губернию. О его новых делах узнавали мы потом из газет.
Я думаю, что эта тяжелая болезнь сильно повлияла на все мое дальнейшее развитие. Много детского слетело с меня после долгого и утомительного лежания в длинные зимние вечера. По мере того, как проходила моя болезнь, с возвращавшимися силами я снова радовался и интересовался жизнью, и мало огорчался тому, что все лицо мое изрядно было «попорчено» оспой тем более, что наш доктор В.П.Б., постоянно лечивший всех нас, серьезно успокаивал меня, говоря, что все это исчезнет впоследствии. Эта эпидемия оспы, прошедшая сравнительно благополучно у нас, имела более печальные последствия у Г – х, где от нее умер мой товарищ Ганя, бывший на два месяца старше меня.
Когда я выздоровел, то уже не ходил в Приходское Училище, меня отдали в школу Анны Васильевны Н., которая подготовила меня для поступления в Реальное Училище.
Это была пожилая особа маленького роста в синих очках. Всех нас учеников у нее было не много, 10-12 душ пансионеров и приходящих, трое с престранными фамилиями – Тир, Самбург, Баллин. Первый из них учился со мной и в Реальном Училище и в Технологическом Институте, но в последнем пробыл всего один год и умер от тифа. С остальными я потом уже не встречался и мало-по-малу перезабыл их совсем.
В школе Н. мое учение пошло успешнее, чем в Приходском Училище, где многие, читая, не понимали иных слов. И когда в старшем отделении первого класса, находившимся в этой же комнате, ученики читали «Лев, Медведь и Лисица (басня)», то полагали, что дело идет о четырех животных, а из «математики» не шел дальше первых задач Евтушевского, где были задачи вроде таких, что «брату два года, а сестра годом старше» и нужно было узнать сколько лет этой сестре. Узнать это было очень не трудно. Можно было, не ломая головы, перевернуть несколько страниц и в конце задачника все это было уже напечатано. Когда же я попробовал применить этот способ и в школе Анны Васильевны, то она взяла мой задачник и перочинным ножом вырезала из него все ответы. Дело приняло другой оборот и мне пришлось соображать почем покупает и продает разносчик яблоки; купец сукно 1-го и 2-го сорта и т. д. В этой же школе я получил твердые сведения о географии, о вращении земли, о том, что Америка под нами и прочие диковинные вещи. Из прочитанного дома до этого времени, кроме стихотворений Пушкина и Лермонтова, самое сильное впечатление оставили сказки Андерсона – старая книжка без переплета с наивными рисунками; случайно оказавшаяся у нас. Особенно нравились мне «снежный болван» и «дворовый и флюгерный петух». Из другого прочитанного помню, чью-то хронику «Наша семья» в журнале «Игрушечка» Татьяны Пассек и сентиментальную повесть – «Павел и Виргиния» в журнале «Задушевное Слово», которое получала моя старшая сестра. В этой повести рассказывалось как росли вместе мальчик и девочка, погибшая впоследствии у берегов своей родины, которую она покинула на несколько лет, сейчас не помню почему.
Сама Анна Васильевна Н. была человек очень добрый, спокойный и необыкновенно корректный. Я и сейчас вспоминаю о ней с большим уважением, хотя и был свидетелем как ее сын студент Ветеринарного Института бил по щекам пансионеров, живших у нее. Этот господин и следил за дисциплиною среди учеников. Другой, учившийся в Технологическом Институте и вскоре умерший, после его окончания, в наши дела не вмешивался.
Школа сначала помещалась на Сумской улице, а затем перешла на Чернышевскую, рядом с домом А-хь. Когда спустя двадцать лет будучи в саду у А., я заглянул через забор к соседу; где была когда-то моя школа, то крайне был поражен его величиною. – «Да неужели это тот сад!» – так он был мал и не соответствовал моим ранним, детским впечатлениям.
Учение в школе Н. было домашнее и не носило того принуждения, какое было в Приходском училище. Не было суровой дисциплины и наказаний, не ставили на колени, не было и карцера, роль которого в Приходском училище играл темный чулан под лестницей и не задерживали провинившихся до позднего вечера, когда приходилось идти домой при свете уличных фонарей.
Шалил я у Анны Васильевны гораздо меньше, и большинство недоразумений и историй было у меня на улицах при возвращении домой. Это были очень странные и смешные возвращения.
Благодаря воинственным столкновениям при встрече с другими школьниками приходилось изменять дорогу и часто я из школы шел совсем в противоположную сторону, обходил лишние кварталы и с другой стороны попадал к себе домой. Эти предосторожности были необходимы, так как прямые пути бывали заняты неприятелем, караулившими мое возвращение.
Драться на улице я не любил и в опасные минуты рассчитывал на свои ноги – бегал я порядочно.
В школе Н. пробыл я полтора года и когда мне исполнилось десять лет, меня повели на экзамен в Реальное Училище.
Впечатление было необычайное. Большая толпа учеников в черных блузах с золотыми пуговицами, синие виц-мундиры педагогов, громадные коридоры – действовали подавляющее.

В своем домашнем, партикулярном платье, на мне была какая-то блуза с отложным воротником, я чувствовал себя прескверно, особенно после замечания инспектора, сделанного мне на первых же порах в приемной, где я находился со своей матерью, когда, называя свою фамилию. Я растерялся и несвоевременно встал со стула.
Собственно в Училище я подвергся только одному экзамену из Закона Божьего, бойко прочитав молитву Господню и показав как надо креститься, при чем дело не обошлось без недоразумений с моей правой рукой, которой я не доставал до правого плеча. По русскому же языку и арифметике выдержал экзамен приватно на квартире нашего знакомого Николая Михайловича В., прочитав ему что-то из местной хроники и сложив в уме несколько цифр.
Через несколько дней после экзаменов мне объявили, что я принят в приготовительный класс и велели явиться в форменном платье к 7-му августа. Так рано начинались тогда занятия в средней школе. С этого числа и окончилась моя свободная жизнь на улице, когда пришлось надеть жесткую черную блузу и фуражку с золотым гербом. Форма эта, как мне объяснили в училище и как это было напечатано в наших записных тетрадях и карманных билетах, налагала на меня новые обязанности, которые я должен был исполнять под страхом увольнения из Училища, а с этим в то суровое, сравнительно с нынешним временем, это были 1890-ые годы, далеко не шутили – прощай свободная жизнь! …
Продовження далі…