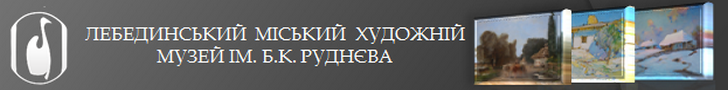початок написання – 1909 рік, збережена мова оригіналу
Если бы меня спросили: для чего я вздумал записать воспоминания о своей жизни, то возможно, что я не был бы в состоянии дать на это точный, определенный ответ. В таком положении был, вероятно, автор «Записок из подполья», который писал, воображая перед собою публику «чтобы вести себя приличнее». Я этого в виду не имею и не потому, что это было бы не нужно. Дело в следующем: более десяти лет тому назад я вел что-то в роде дневника беспорядочного и нелепого. Это было в последние годы пребывания в Реальном училище. Вскоре после поступления моего в Технологический Институт я вынужден был по некоторым соображениям запрятать его подальше и он не попадался мне более десяти лет. Случайно достав его и перечитывая, установил, к сожалению, как много уходит из памяти впечатлений и переживаний. И что же – многое, казавшееся так основательно забытым, при чтении вновь оживало и устанавливалась какая-то связь сквозь долгие годы всестирающего времени.
«Прошедшее» – не существует – оно всегда – «было», его нет. Это и заставляет меня записать свое прошедшее, минувшее. Это не автобиография и не исповедь. Утверждают, что таковые, почти невозможны. По мнению, напр. Гейне – Руссо в своей исповеди налгал на себя и даже умышленно (из тщеславия). Я этого не хочу, так как у меня другие цели, но об этом я уже сказал. Вот и все.

 Я родился в городе Харькове на Мироносицкой улице в 1879 году и теперь мне, следовательно, 30 лет. К тому времени, о котором я сейчас пишу всех нас детей было четверо. Нас было гораздо больше, если бы были живы все мои братья и сестры. Я и сейчас точно не помню из кого состояла вся наша семья. Знаю только, что мои две старшие сестры умерли одновременно в 70-х годах в числе первых жертв, вспыхнувшей тогда в Харькове эпидемии дифтерита. Меня тогда еще не было на свете. Моя младшая сестра, с которой я был более дружен, чем с другими, умерла, когда мне было тринадцать лет, простудившись во время поездки с отцом в г. Сумы к дедушке бывшем там протоиереем. Самые мои ранние воспоминания, относящиеся к тому времени, когда мне было 3-4 года, очень смутны и неопределенны. Кое-что из этого возраста я помню только благодаря некоторым событиям, имевшим место в то время, и лицам с которыми мне пришлось встретиться. Из этих событий моей жизни того времени наиболее значительным, врезавшимся в мою память является операция, произведенная над моей рукой, поврежденной от пустякового ушиба при падении на пол. Как болела у меня рука и всю процедуру предварительного домашнего лечения я совершенно забыл. Помню только как вывели меня в нашу самую большую комнату, носившую у нас название «залы», сняли куртку и положили на стол. Мне сказали, что только осмотрят мою больную руку и предложили взглянуть на какую-то грушевидную, зеленоватую маску от которой странно пахло. Была ли на самом деле маска зеленого цвета или у меня от нее позеленело в глазах – я не знаю, так как потерял сознание и когда очнулся, то увидел себя стоящим на стуле. Со мной были сильные рвоты и меня поддерживал наш знакомый, некто Дм. А. Вахнин студент-медик, квартировавший у нас. Мои самые ранние воспоминания остались в моей памяти, благодаря этому лицу и я хочу, хоть немного сказать о нем. Он очень любил меня. Как я уже сказал был он медик 3 курса. Обстоятельства заставили этого человека жить некоторое время в нашей семье и он почему-то привязался ко мне. Я сам люблю маленьких детей и его тогдашние чувства ко мне вполне понятны. Не знаю как я отвечал ему, но помню, что охотно ходил с ним за руку гулять в большой Университетский сад, находящийся неподалеку от нас, а также и то, как он принимал участие в моем купании и укладывал меня спать.
Я родился в городе Харькове на Мироносицкой улице в 1879 году и теперь мне, следовательно, 30 лет. К тому времени, о котором я сейчас пишу всех нас детей было четверо. Нас было гораздо больше, если бы были живы все мои братья и сестры. Я и сейчас точно не помню из кого состояла вся наша семья. Знаю только, что мои две старшие сестры умерли одновременно в 70-х годах в числе первых жертв, вспыхнувшей тогда в Харькове эпидемии дифтерита. Меня тогда еще не было на свете. Моя младшая сестра, с которой я был более дружен, чем с другими, умерла, когда мне было тринадцать лет, простудившись во время поездки с отцом в г. Сумы к дедушке бывшем там протоиереем. Самые мои ранние воспоминания, относящиеся к тому времени, когда мне было 3-4 года, очень смутны и неопределенны. Кое-что из этого возраста я помню только благодаря некоторым событиям, имевшим место в то время, и лицам с которыми мне пришлось встретиться. Из этих событий моей жизни того времени наиболее значительным, врезавшимся в мою память является операция, произведенная над моей рукой, поврежденной от пустякового ушиба при падении на пол. Как болела у меня рука и всю процедуру предварительного домашнего лечения я совершенно забыл. Помню только как вывели меня в нашу самую большую комнату, носившую у нас название «залы», сняли куртку и положили на стол. Мне сказали, что только осмотрят мою больную руку и предложили взглянуть на какую-то грушевидную, зеленоватую маску от которой странно пахло. Была ли на самом деле маска зеленого цвета или у меня от нее позеленело в глазах – я не знаю, так как потерял сознание и когда очнулся, то увидел себя стоящим на стуле. Со мной были сильные рвоты и меня поддерживал наш знакомый, некто Дм. А. Вахнин студент-медик, квартировавший у нас. Мои самые ранние воспоминания остались в моей памяти, благодаря этому лицу и я хочу, хоть немного сказать о нем. Он очень любил меня. Как я уже сказал был он медик 3 курса. Обстоятельства заставили этого человека жить некоторое время в нашей семье и он почему-то привязался ко мне. Я сам люблю маленьких детей и его тогдашние чувства ко мне вполне понятны. Не знаю как я отвечал ему, но помню, что охотно ходил с ним за руку гулять в большой Университетский сад, находящийся неподалеку от нас, а также и то, как он принимал участие в моем купании и укладывал меня спать.

Вахнин был типичный студент того времени. Его черты, тускнея со временем, совершенно изгладились бы из моей памяти, если бы не осталась старая фотографическая карточка, которая храниться у меня и в настоящее время. Он был среднего роста, как и мой отец, носил длинные волосы, аккуратно зачесанные назад. Был худощав, реденькой бородкой и светлыми глазами. Организм его был подорван еще до того времени, когда он поселился у нас. Живя впроголодь и как-то голодая весною, он по его словам, с голоду ел цветы белой акации. Кажется, у него была чахотка. Потом ему тяжело было оставаться в нашем пыльном городе, он уехал в деревню к своему знакомому учителю, где и умер. После его смерти остались завещанные мне его дневник и карманные серебряные часы. Эти часы и сейчас висят над моей кроватью, что же касается дневника, то он к сожалению пропал тогда же. В нем Вахнин описывал свои наблюдения надо мною, мою болезнь, операцию и тому подобное. Всю ценность для меня этой тетрадки в желтенькой обложке чувствую я только в настоящее время.
Самыми значительными событиями в раннем детстве наиболее четко врезавшимися в память, конечно, являются события праздничные, рождественские, пасхальные, хотя должен прибавить, что наряду с этим какое-нибудь незначительное событие, случай иногда так прочно и ярко осаживается в голове, что даже всеизглаживающее время безсильно пасует в своем стремлении стирать со всего и контуры и краски.

Приблизительно к четырехлетнему возрасту относится первая Рождественская елка. Она была раза три-четыре, а позднее ее и совсем не устраивали. Так как находили, что мы уже слишком выросли. Несмотря на кратковременность, впечатление она оставила надолго. Я и сейчас помню нашу елку, темную чащу ее веток с блестящими цепями, звездами, золотистыми орехами, картонажами и т. п. Бывали мы на елке и у своих хороших знакомых Гордеевых, Глинских, у Вебер. Елка в семействе Вебер мне особенно памятна, потому что они жили далеко от нас и длинная поездка к ним через весь город являлась событием значительным, а также и потому, что на эту елку я надел впервые настоящие штаны без бокового протеза, с пряжкой сзади как у взрослых, о чем счел нужным сообщать бувшим там некоторым лицам, кажеться даже мне незнакомым. Запомнилась также мне и куртка, бывшая в этот вечер на мне – черная, бархатная с какими-то серебряными позумонтами.
Живо припоминаются и вечера в сочельник с традиционной кутей и постными пирогами. Обедали в этот день поздно, ожидая появления вечерней звезды, что вызывало в пасмурную погоду большие недоразумения. Споры в этом направлении решал приход отца, у котрого всегда в это время затягивались занятия в банке, где он служил. Отец заявлял, что видел звезду, когда проходил по Сумской улице. Все улаживалось, мы отходили от окон и усаживались за стол.

Ужин под Новый год также представлял некоторое событие, потому что в конце его подавали сладкий пирог с вареньем, с запеченной в нем серебряной монетой. В это время у нас часто бывали гости. Происходила шутливо-торжественная церемония разрезания пирога. Пирог раздавался в каком-то порядке и первый кусок кому-то клали отдельно. Прежде чем начать есть мы усердно перекапывали свои порции.
В самом раннем воздасте, в год ребенок узнает больше, чем во всю остальную жизнь, а потому пора пятилетнего возраста самая занимательная, самая яркая. Все восприятия так остры и свежи, все так интересно и необыкновенно. А ведь и в последующее время вы как буд-то тоже – также сменялась зима весною, сильнее всегда пригревало сонце и зеленела трава, также улетали и прилетали птицы – вы как буд-то одно и тоже, но только нет той остроты ощущения, нет того интереса, даже не столь позднее как сейчас, а гораздо раньше. Я с большим интересом вспоминаю эту пору, когда многое обычное казалось таинственным и пресным, когда, например, меня поражало, куда делась та конфета, которую я уронил в кадку с водой. Кадка была большая и полна воды от тающего снега на крыше. Я все ожидал когда уменьшается вода в ней, чтобы забрать свою конфету. Через несколько дней вода была выбрана из нее, но на дне я увидел только грязную, расплавленную бумажку.

Наш небольшой двор и сад казались большими и вполне удовлетворяли прогулкам, играм и другим затеям самого разнообразного свойства. Всегда находилось возможным что – либо предпринять во дворе на садовых дорожках.
Сад был небольшой, но густо засажен, в нем росло несколько больших тополей, акаций, каштанов, кустов сирени и с десяток фруктовых деревьев, служивших большим соблазном для нас и источником частых огорчений нашого отца.
Каждое дерево имело для меня свою собственную физиономию: Была «мамина тополь» – большое трехствольное, корявое дерево в самом дальнем углу сада, возле нее райка наших покойных сестер, погибшая от пожара, устроенного нами под нею (об этом дальше) была «бабушкина сирень», «папина груша», дающая и по сие время прекрасне плоды, хотя и подвергается нападениям уличных мальчишек, так как стоит неподалеку от забора.
До семи лет я был неграмотный и вел жизнь уличного мальчика, бегая по нашей тогда довольно тихой улице в то время не мощеной, на которой летом лежал толстый слой прекрасной мягкой пыли.
Насколько приятна была улица летом, настолько же становилась грязной и непроходимой осенью, когда начинали идти частые дожди. И улица и площадь, куда выходили окна наших комнат и чуть не было и помину теперешнего большого сквера представляли тогда дремучее болото, где вязли и опрокидывались и городские ваньки (так называют у нас одноконных извозчиков) и крестьянские подводы. Один раз наблюдали как вытаскивали с помощью досок мальчика с большим тортом. Подле наших окон в луже он полоскал свои перепачканные руки и плакал. Его зазвали к нам успокоили и дали газетной бумаги вместо испорченной салфетки.

Когда же наступали морозы, сковывавшие лужи, то на площади появлялись прекрасные «сколзанки», на которых катались мальчишки и падали посторонние пешеходы. Мне кажется, что зима в то время была больше снежной и ровной. Я слышал, что раньше кругом нашего города было больше лесов. Бывало выпадает столько снегу, что засыпит весь сад, а улицы укатанные санями, кажутся высоко приподнятыми. Весна начиналась дружно, по нашей улице текли ручьи, на площади стояли целые озера. Улицы сверкают, переливаются, на заборе сидят несколько сонных мух, в местах, защищенных от солнца, грязные пласты рыхлого снега, воробьи кричат ужасно, небо синее-пресинее – городская весна! Пора бумажных лодок, корабликов и т. п. Опишу первые игры – они были крайне не сложны и явно уличного характера. Когда совсем сходили снега и просыхали места у заборов начиналась игра в пуговицы. Эта пустяковая игра почему-то вводила в большой азарт участвующих. Состояла она в следующем: на более сухом, ровном местечке делалась небольшая ямка, куда играющие, отойдя на несколько шагов, бросали по очереди свои пуговицы. Чья пуговица падала ближе, тот и начинал щелчками загонять в ямку пуговицы и свою и своих партнеров. Промахнувшегося заменял следующий по очереди и игра оканчивалась только тогда, когда к одному искуснику переходили все пуговицы, а неудачники, чтобы отыграться, тут же снимали с себя, где только возможно, лишене.
По мере того как просыхали тротуары, на смену игры в пуговицы являлись кубари. Точеные из белой липы или самодельные из короткого куска толстой пачки с заостренным концом одинаково были милы и усердно подхлестывались в несколько кнутов. «Цурки», «лапта» не пользовались таким вниманием, равно как и «бабки» . В «бабки» обыкновенно играли большие мальчики, а мы, малыши, всегда держались поодаль, боясь нечаянного удара тяжеловесной «чугунки», которую бросали с большого расстояния разгоряченные игроки. Да и сами «бабки» – грязно-желтые, дурно пахнущие, иногда с кусочками хряща на них не пользовались особенно большим моим расположением особенно после случая, когда наша дворовая собака Джальма изгрызла половину моего костяного богатства, которое я забыл вечером на нашем крыльце.

С этой Джальмой, большим, грязным, белым пуделем произошел один эпизод, которого я не могу забыть и в настоящее время, более 25 лет спустя.
Эта собака давно жила у нас. Откуда и когда она попала к нам я не помню. Вероятнее всего сама пришла к нам и так как ее никто не гнал, то она и поселилась у нас. Она принимала горячее участие в наших играх и сопровождала нас в недалеких прогулках. Одно время в нашем городе появилось много брошенных собак и боялись, что Джальма, постоянно выбегающая на улицу, могла быть покусана. После какой-то горячей свалки за воротами, в которой она, по видимому принимала участие, от нее решили избавиться и подарили ее водовозу Сидору, постоянно возившему нам воду. У нее в это время были щенки. Щенков положили в кулек и Сидор забрал их собою. Мы высыпали на улицу. Бедная собака с визгом бросалась то к нам, то к отьезжавшим щенкам – и все таки она осталась и не захотела уходить из нашего дома. Тогда ее привязали за водовозкой.
Когда начинало сильно пригревать солнце и окончательно просыхала улица, наступал сезон игры в мяч, пускания змеев. Но змей обыкновенно пускали с весны до осени, в то же время, как игра в пуговицы, кубари, цурки были играми чисто весенними и имели короткие последовательные сезоны. Эту последовательность наблюдаю я и в последние годы. В мяч «с гилкой» почему-то также играли только весною, в особенности на Пасху. Ни в карты, орлянку, стенку (на деньги) мы не играли. Сейчас же эти игры среди мальчишек в большом ходу.
Продовження далі…